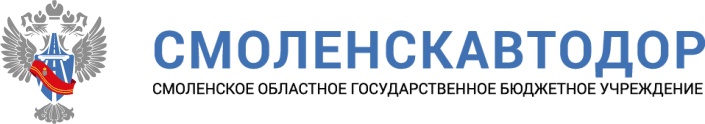Терроризм. Глазами военкора Пегова
3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом

Cтремительно развивающиеся в Афганистане события по приходу к власти террористической организации «Талибан», запрещенной в России, волей–неволей напомнили нам всем об этом страшном явлении — международном терроризме.
Отошедшая за последние годы для России куда–то на второй план тема мгновенно заиграла свежими красками опасений. Хотя далеко она и не отходила. У многих еще свеж в памяти теракт в питерском метро 3 апреля 2017 года. А внимательный взгляд на войну в Донбассе показывает чудовищные и бесчеловечные методы ведения боевых действий со стороны вооруженных сил Украины, ничем особо не отличающиеся от террористических…
Если отмотать ленту времени назад, в России большая часть терактов пришлась на 90–е и первую половину 2000–х. Одна из самых страшных страниц — захват заложников 1 сентября 2004 года в школе города Беслана. Не менее страшным выдался сентябрь 1999–го, когда террористы осуществили серию взрывов жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске. После этой «волны» страх у россиян достиг такого уровня, что они вышли на охрану своих подъездов, опасаясь повторения кошмара. И так было не только в Москве, но и по всей стране. И в Смоленске тоже дежурили. А еще был захват заложников в театральном центре на Дубровке, взрывы самолетов, теракты в метро, попытка подрыва «Невского экспресса», теракт в Домодедово…
Заметьте, слово «страх» не единожды появилось в тексте за последние несколько абзацев. Это именно тот результат, которой нужен террористам. Страх. Страх выйти на улицу, зайти в кафе, отправить ребенка в школу и т.п.
Есть ли в нас этот страх сегодня? Нужно ли нам думать о том, что происходит там, за тысячи километров, в непонятной арабской стране? Что представляет собой современный терроризм? Как за двадцать лет изменились методы вербовки джихадистов? Об этом мы беседуем с военным корреспондентом, уроженцем Смоленска Семеном Пеговым, который более двенадцати лет работает в различных горячих точках по всей планете.

«Талибы для меня — террористы»
— Семен, давай начнем с ситуации в Афганистане. Напомню, что «Талибан» признан террористическим не только Россией (здесь он запрещен), но и Советом безопасности ООН, а также Канадой. Сейчас одни говорят, что мир де–факто получил террористическое государство, вторые (например, режиссер Карен Шахназаров) прогнозируют возможный отход талибов от террористических методов ввиду того, что им будет нужно выстраивать международные отношения, а с террористами мало кто захочет вести официальную дипломатию. Что думаешь ты?
— Как по мне, «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) был и остается террористической организацией, несмотря на то, что сейчас талибы как официальная власть в Афганистане, по всей видимости, будут позиционировать себя «белыми и пушистыми». Однако нельзя забывать, что талибы регулярно устраивали теракты, брали в плен заложников и убивали их. Поэтому для меня они — террористы. И, конечно, я не разделяю восторга многих российских экспертов насчет того, что проамериканское правительство в Афганистане проиграло. Да, оно проиграло, и случившееся в Афганистане — это большой провал американской внешней политики, но это не значит, что «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) не несет никаких угроз для Средней Азии — Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Туркмении. Его влияние на жизнь этих государств может быть не столько открытым, в виде военного вторжения, сколько скрытым, в форме распространения своей радикальной идеологии. Если ранее такое распространение было, пусть и формально, ограничено на севере Афганистана тем, что осталось от Северного альянса [объединения ряда полевых командиров северного Афганистана против «Талибана» — авт.], то сегодня таких противников у «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) в Афганистане уже нет. И это содержит определенную опасность.
— Все–таки один из главных вопросов, который сегодня беспокоит мировое сообщество — пойдут ли талибы с оружием дальше границ Афганистана?
— С оружием, думаю, не пойдут. Они прекрасно понимают, что любая военная экспансия в любой граничащий с Афганистаном регион будет воспринята международным сообществом в штыки. Но это не мешает им работать более технично и более тонко со «спящими ячейками», готовыми по команде заняться террористическими акциями. Обратите внимание на то, как талибы взяли Кабул: физически их отряды еще не зашли в город, но вдруг оказалось, что внутри него уже полным–полно талибов…
Вообще, современные талибы — прекрасные технологи в части работы с информацией, а не какие–то темные и полуграмотные отморозки, как кто–то может подумать. И если посмотреть на их методы ведения информационной войны, станет ясно, что они идут в ногу со временем. Так что, думаю, внешняя экспансия «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) будет проявляться именно в виде создания сети «спящих ячеек» в приграничных государствах.
— То есть вовне они пойдут не пешком, а по проводам интернета?
— Да. Сегодня завербовать человека через соцсети ничего не стоит. Мы сейчас как раз готовим к выпуску двухсерийный фильм–расследование о вербовщиках в террористические группировки, которые «обрабатывали» россиян с целью их дальнейшего участия в джихаде. Если говорить о новых технологиях вербовки, главную и серьезную проблему сегодня составляет так называемый «автономный джихад». Яркие его примеры — братья Царнаевы, устроившие взрывы во время проведения Бостонского марафона весной 2013 года, а также теракт в питерском метро 3 апреля 2017 года.
Есть конкретные проповедники «Аль–Каиды» (запрещенная в РФ террористическая организация), которые придумали эту схему автономного джихада. Главное — чтобы тебя не заподозрили, не увидели в тебе террориста. Такие исполнители терактов в своей обычной жизни редко показывают свой внутренний интерес к радикальным идеям, к исламу вообще. Те же Царнаевы. Два брата, не связанные ни с какой террористической группировкой, не получавшие никаких указаний из Саудовской Аравии, Афганистана или еще откуда, самостоятельно организовали настоящий теракт, унесший десятки жизней. И если группу таких людей можно вычислить по переписке, то одиночку, который все придумал в своей голове — гораздо и гораздо труднее. К каждому человеку в голову не залезешь.
Террористические организации активно занимаются вербовкой также с целью выполнения терактов и экстремистских акций по заказу третьих стран, которые используют терроризм как инструмент влияния на внешнюю политику государств–конкурентов. Одна из таких акций планировалась к проведению в России около года назад в Хабаровске. Там был задержан парень, который должен был закидать коктейлями Молотова толпу митингующих в поддержку губернатора Фургала. Мы с этим парнем общались в рамках сбора материала к нашему фильму. Вроде бы задача безобидная, подумаешь, кинуть пару–тройку коктейлей Молотова. Он рассказал, что такую задачу ему поставили боевики из группировки «Хайат Тахрир аш–Шам» (запрещенная в РФ террористическая организация). Эта группировка работает под прикрытием турецких спецслужб и фактически этого не скрывает. Казалось бы, мы с Турцией дружим, но тем не менее, группировки, подчиняющиеся туркам, не стесняются использовать терроризм с целью дестабилизации ситуации, в том числе, в России.
Что бы получилось в случае претворения их планов в Хабаровске? Не нужно много фантазии, чтобы раскачать ситуацию в нужное террористам и их заказчиках информационное русло. Дескать, оппозицию закидали коктейлями Молотова, и это «хайли лайкли» какие–нибудь казаки, которых завербовала ФСБ. И такие угрозы в России сейчас сохраняются, несмотря на то, что большое количество подобного рода экстремистских акций и терактов пресекается нашими спецслужбами.

«Информационный джихад ведется в России перманентно»
— Если быть точным, то в прошлом году спецслужбы предотвратили 41 теракт на территории России. Но в целом российское общество, на мой взгляд, уже давно не испытывает страха перед террористами. Страха в том понимании, каким он был, допустим, в 1999 году, когда (я это помню) после взрывов жилых домов в Москве и Волгодонске жители многоподъездных домов Смоленска начали дежурить вечерами и ночами, опасаясь теракта в своих домах. Страха после захвата Дубровки в 2002–м, после Беслана в 2004–м.
— Я тоже это помню. Это было мое детство. Помню осень 1999–го, когда и в нашем подъезде тоже дежурили соседи. Помню Дубровку. Помню Беслан, я тогда учился на первом курсе СмолГУ. Помню угнетенное состояние всего общества, которое передавалось также и нам, подросткам через призму телевизора.
— Как думаешь, в современной России в принципе возможно повторение такого рода терактов — взрыва домов, Дубровки, Беслана — или это уже немыслимо?
— Каждому из нас нужно понимать, что терроризм, как ни странно, идет в ногу со временем. И если джихадисты того, старого поколения представали перед нами в виде радикалов, обмотанных поясами шахида и взрывающих себя в людном месте, то сегодня их портрет — это обычный молодой парень, по которому и не скажешь, что он как–то радикально настроен. Я называю таких террористами от фейсбука, инстаграмма и пр. Им не обязательно метко стрелять из автомата или уметь делать взрывчатку, достаточно владеть определенными приемами убеждения, иметь под руками клавиатуру, экран и все.
Информационный джихад ведется в России перманентно, и я даже не готов сказать, что мы справляемся со всеми вызовами. Очень много завербованных людей в итоге физически едут воевать в Сирию на стороне террористов или же остаются в России и ждут от них каких–то задач. Вот таким образом формируются «спящие ячейки», и кто знает, что может произойти.
— Согласен с тобой — для многих обывателей образ террориста остался на уровне 20–летней давности. Это суровый бородатый мусульманин, обвешанный оружием, с отрезанной головой в руке, плюющий в телекамеру непонятные проклятия.
— Да, и надо понимать, что это давно уже не так. Есть, например, такой террорист Мохаммед Джа Лай, который возглавляет вышеупомянутую группировку «Хайат Тахрир аш–Шам» (запрещенная в РФ террористическая организация). Ранее эта группировка считалась близким крылом «Аль–Каиды» (запрещенная в РФ террористическая организация), но постепенно они поняли, «Аль–Каида» у всех ассоциируется с терактами 11 сентября в Нью–Йорке и никакой мусульманин, сколь ярым сторонником шариата он ни был, не захочет вступать в ряды такой чудовищной организации. Поняв это, они провели несколько ребрендингов своей группировки. И Мохаммед Джа Лай, который ранее отрезал головы под камеру, скрывал свое лицо и ходил в военной одежде, не так давно давал интервью одному из британских телеканалов уже в очень интеллигентном пиджачке — ну почти голливудский персонаж. Визуально это уже совсем не тот боевик, которого весь мир видел 5–6 лет назад. Но только визуально. Вот обо всем этом мы, кстати, тоже рассказываем в нашем фильме–расследовании.
— Когда его можно будет увидеть?
— Фильм находится в процессе рождения. Надеюсь, до конца года будет готов. Мы объехали множество российских регионов, пообщались с женщинами, которые были завербованы по интернету, по интернету же проводили свадьбу и после отправлялись в Сирию к своим новым мужьям, кто в «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая организация), кто в другие террористические группировки. География таких вербовок по России очень широка. Если вы думаете, что это касается только Северного Кавказа, это не так. Хабаровск, Кемерово, Новокузнецк, Липецк, Татарстан, Сибирь… Много регионов, в которых происходят такие, казалось бы, очень странные ситуации, когда русские девушки (русские, подчеркиваю) соблазняются такими сомнительными вещами как джихад.
Мы общались с такими девушками, с их детьми (одни родились уже в Сирии, других привезли туда совсем малышами). Отдельно съездили в Сирию, где пообщались с боевиками, которые находятся сейчас в местных тюрьмах, чтобы получше понять их идеологию и методы работы.
— Вербуют русских мусульманок? Или не только?
— Не обязательно мусульманок. Кого–то после вербовки обращают в ислам по интернету. Один из выводов, к которому мы пришли, заключается в том, что благодатную почву для террористов–вербовщиков составляют девушки, имеющие за плечами неудачный брак (когда муж пил, играл в азартные игры и т.п.). Такие девушки чисто инстинктивно искали более крепкую семью, более консервативных отношений, начинали интересоваться исламом и попадали на вербовщиков. Второй вывод — это то, что так называемые неофиты обычно готовы на более рискованные, радикальные шаги.
— Вербуют в основном по интернету?
— По интернету, конечно, большой процент. Но также много вербовок происходит на тех же стройках, где бок о бок работают совершенно разные люди, попавшие туда случайным образом.

«Для меня донбасский фронт и смоленский фронт — это одно и то же»
— Семен, я где–то читал, ты говорил, что работа военкором вылечила тебя от подростковых комплексов и депрессий. Это так?
— Находясь в горячих точках, ты в какой–то степени иначе начинаешь смотреть на повседневные проблемы. Побывав на войне и увидев там, что действительно страшно и по–настоящему жутко для людей, ты понимаешь, насколько пусты и мелки твои житейские заботы, вещи, которые раньше могли тебя ввергнуть в уныние.
Чище начинаешь жить. Чище. Без лишнего вещизма. Даже как–то стыдно становится из–за того, что ранее переживал из–за этого. Вряд ли теперь меня когда–нибудь расстроит отсутствие, допустим, горячей воды. Если есть просто холодная вода — это уже рай для меня, потому что были ситуации, когда мы месяц мыли голову минералкой. Это было в Славянске, и там другой воды просто не было.
Я абсолютно уверен, что когда в 2014 году в Донецке началась полномасштабная война, за несколько месяцев до ее начала мало кто из местных жителей мог подумать, что будет жить в подвале и так далее. Я вот, например, для себя уже решил, что если буду строить дом, то подвал в нем должен быть комфортный. Эта мысль, что война может начаться в любой момент, застать тебя врасплох, и никаких гарантий нет, что этого не произойдет — она крепко засела у меня в голове.
— Ты же начал работать военкором в Абхазии, приехав туда летом 2008 года в гости отдохнуть, но фактически попав на «Пятидневную войну» Грузии против Южной Осетии и Абхазии.
— Ну, в Абхазии никаких активных боевых действий не было. Они велись в Южной Осетии. Но в абхазском воздухе все равно царила какая–то трудно передаваемая военная романтика. Я вот жил в Смоленске, и почти не встречал тут человека с автоматом в руках. А там окунулся в эту атмосферу… Какие–то блокпосты, вроде бы стрельбы и нет, но ты чувствуешь эту «хемингуэвщину на берегу моря», которая пронизывает тебя всего. Это чувство меня тогда подкупило, и я подумал, что если заниматься журналистикой, то такой — военной.
Я потом больше двух лет жил в Абхазии и работал на местном телевидении. И хотя она не являлась горячей точкой, были и перестрелки на границе, и теракты и прочее — я это называю «тлеющей горячей точкой». Все это меня отлично подготовило к последующей работе в более тяжелых условиях. Благодаря Абхазии я понял восточный менталитет, научился более–менее правильно вести себя в восточном обществе. Потом мне это очень сильно пригодилось в других странах, в том числе, в Сирии.
— Если вспоминать Сирию, кадры чудовищных разрушений, которые неминуемо несет за собой терроризм — какое впечатление это произвело на тебя непосредственно на месте событий?
— Телевизионная картинка не передаст всего масштаба этих разрушений. Это был Сталинград, когда кварталы мегаполисов один за другим превращались в руины и пыль. Это жесткая война, которая идет до сих пор. В 2015 году мне удалось прилететь в один сирийский город, в котором оставался клочок свободной земли в полном окружении «ИГИЛ» (запрещенная в РФ террористическая организация) в радиусе 150–200 километров. Кучка бойцов сирийской армии удерживала последние несколько кварталов и аэропорт. Я тогда летел 200 километров над игиловцами, реально видел их машины, передвижения… Такие истории из Сирии для меня в чем–то сравнимы с какими–то античными сюжетами. Люди там жили без еды месяцами, рубились с полчищами игиловцев, идя на смерть с улыбкой. Какие–то такие ассоциации вроде «Трои» или «Одиссеи». Война мифологического масштаба.
Хотя разрушенные камни — это не самое грустное и не самое страшное, что можно увидеть на войне. Когда ты видишь, как на твоих глазах умирает ребенок… В Славянске была история — мы приехали на один обстрел, прямо при нас из–под завалов вытащили тяжело раненого мальчика и повезли его на операцию. Мы поехали в больницу вместе с ним, были рядом с операционной, но он, к сожалению, умер… Вот это больше ранит. Прерванные и покалеченные человеческие жизни, а не разрушенные дома. Дом можно выстроить заново, а того ребенка уже не вернуть и его матери утрату ничем не восполнить. Человеческая боль оставляет больший след, чем эпические картины разрушений. И нет никакой разницы, какой ребенок погиб на войне — сирийский или донбасский. Это одинаково больно.
— В каких горячих точках тебе пришлось увидеть больше всего боли?
— Как тебе сказать… Боль — это же такая вещь, которая не измеряется в граммах. Могу сказать, что донбасскую историю в целом я воспринимаю более лично, чем сирийскую, потому что эта война воспринимается мною как будто это война в Смоленске. Именно так. Для меня донбасский фронт и смоленский фронт — это одно и то же. Я понимаю, что события, происходящие в Донецке, запросто могут случиться в шестидесяти километрах от Смоленска.
— Это ты про Белоруссию?
— В том числе и про нее. Мы, жители приграничных земель, кто мы — русские, белорусы? Не по паспорту, а по крови. Моя прабабушка, на мой взгляд, была больше белоруска, чем русская. Поэтому ситуация в Белоруссии для меня — тоже личная история. На сегодняшний момент пока неясно, могу ли я туда ездить после случившегося [Пегов был задержан белорусскими силовиками при освещении массовых акций протеста сторонников Тихановской в августе 2020 года после президентских выборов — авт.]. Но процессы, которые там происходят и которые могут повести Белоруссию по донбасскому сценарию, меня волнуют.

«Шесть лет АТО — это шесть лет ада для нескольких миллионов человек»
— По поводу Донбасса ты однажды сказал, что так называемая антитеррористическая операция (АТО) на Украине стала величайшей военной аферой современности, нацеленной на последовательное разрушение общечеловеческих ценностей: «Шесть лет АТО — это шесть лет ада для нескольких миллионов человек. И это не где–нибудь на задворках мира. Это на наших с вами глазах». Ты, получается, тоже все шесть лет находишься внутри этого ада. Не возникает желания бросить все и уехать куда–нибудь в солнечную Абхазию выращивать цветы?
— Возникает. Но при этом же еще есть адреналиновая зависимость, когда ты уже не можешь без своей работы. Мне вообще комфортно работать в состоянии стресса. Я спокойно принимаю решения и работаю. А когда мне ничего не угрожает, наоборот, становлюсь более неспокойным. Такие уж особенности моего психотипа. Мой профиль военкора — находиться на передовой, непосредственно в бою, с солдатами. Боль человеческих судеб на войне тебя неминуемо касается, но, на мой взгляд, куда тяжелее приходится тем журналистам, которые освещают гражданскую жизнь, человеческие трагедии этой войны.
Определенное свойство человеческой психики — пока ты находишься в этом аду, в этой мясорубке, у тебя как будто включается некий блок на происходящее вокруг. Я никогда не был столь спокоен и уравновешен, как во время самых жутких и опасных моментов. Страх, боль… Все это накрывает меня потом, позже. Кому–то, кто терял близких, наверное, знакома ситуация, когда ты не можешь заплакать во время прощания у гроба и отчасти винишь себя в том, что происходящее не вызывает у тебя острых чувств. А потом пройдет месяц–два и ты как разревешься где–то сам с собой, по–настоящему прочувствуешь, проживешь боль утраты. Вот так у меня с войной — проживание боли происходит на гражданке.
— Сейчас ты работаешь в горячих точках как стрингер?
— Нет, я руководитель самого главного военного СМИ в России — проекта WarGonzo (имеет каналы YouTube, Telegram и ВКонтакте). Мы — по–настоящему независимое военное информационное агентство. Я не получаю денег ни от администрации президента России, ни от администрации президента США, ни от минобороны РФ, ни от Пентагона, ни от какой–либо спецслужбы. WarGonzo существует благодаря донатам подписчиков, которых в YouTube, например, уже больше 340 тысяч, а также контрактам на производство фильмов. Имея такую финансовую независимость, мы пытаемся максимально беспристрастно освещать события, разве что с поправкой на личные взгляды меня и моей команды на тот или иной конфликт.
— Стало быть, редакционные задания ты выписываешь себе сам. Интересно, как выглядит изнутри работа военкора? Ты сидишь, смотришь, что где происходит в мире, и при возникновении конфликта в каком–то регионе просто собираешь вещи, покупаешь билет на самолет и отправляешься в эпицентр событий?
— В принципе, так оно и происходит. К примеру, последняя такая история — это вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. А еще до него был пятидневный конфликт между Арменией и Азербайджаном. При этом на дворе стояла пандемия коронавируса. Я тогда посчитал имеющиеся деньги, мы арендовали телекамеры и направились в Карабах. В первый раз съездили скорее ознакомительно, зато наладили связи, что помогло нам в следующий раз «выстрелить» уже непосредственно во время карабахской войны и отработать ее, не побоюсь этого слова, ярче, чем это сделали многие федеральные СМИ.
Сегодня обычный смартфон заменяет журналисту съемочную группу, монтажера, оператора, и это дает нам выигрыш во времени и в оперативности подачи информации зрителю и читателю. Мои репортажи выходили на 5–6 часов раньше остальных федеральных телесюжетов. Я даже был шокирован и удивлен, насколько наши репортажи WarGonzo разбирали на цитаты другие СМИ.
— С Белоруссией так же было — сидел смотрел итоги выборов и понял, что надо ехать?
— Понятно же было, что в Минске ожидаются беспорядки. Потому и поехал. Я, кстати, считаю, что с точки зрения бизнеса это была самая успешная медиа кампания WarGonzo. Мы не сняли ни одного репортажа, не сделали ни одной новости, однако после того, как меня задержали во время уличной манифестации и отвезли в минское СИЗО, нас обсуждали абсолютно все (смеется). И, пользуясь случаем, еще раз хочу сказать спасибо всем, кто помогал и поддерживал в те дни — я тогда впервые ощутил, что такое по–настоящему журналистская солидарность. Своих не бросаем. Это круто, что в нашей профессии еще сохраняется уважение и взаимопомощь.

«Главное дело в своей жизни я уже сделал»
— Эдуард Лимонов назвал тебя «самым храбрым военным корреспондентом в России». Расскажи пару случаев, когда ты ходил по лезвию ножа.
— Когда я работал в Сирии на стороне армии и снимал боевые действия, направленные против террористов, основная артиллерийская мощь, как правило, находилась именно на стороне прогосударственных сил. Помню, что там я снимал, как танк стреляет по вражеским позициям. А в Донбассе, наоборот оказался в ситуации, когда танк стреляет по мне. Были кардинально противоположные ощущения.
С одной стороны, на Донбассе опаснее, потому что техническая мощь действительно колоссальная. А с другой стороны в Сирии очень легко попасть в плен — даже случайно, переезжая из одного города в другой. Террористы могут выскочить на трассу и похитить вас. Вроде бы, технически легче выжить в Сирии, но нервов там уходит больше.
Один из самых опасных и страшных моментов был тогда, когда мы проснулись в Славянске, а город был полностью окружен. При этом ополченцы и гарнизон уже вышли (командующий гарнизона почему–то не предупредил нас о том, что он собирается уйти).
На тот момент нас было трое русских журналистов. Город стирали с лица земли. Все остальные редакции отозвали своих корреспондентов обратно. Нас, конечно, тоже, но мы лукавили и говорили, что не можем выехать. Нам сильно хотелось остаться до последнего. Мы были в розыске. Если бы украинская армия зашла, а мы не успели оттуда уйти, то с нами бы никто не церемонился. Пришлось выезжать оттуда какими–-то окольными путями.
Что же касается Эдуарда Лимонова, то с ним связано мое самое главное дело в жизни, которое я уже сделал — мы сняли кино про Лимонова. Недавно вышла его последняя книга «Старик путешествует», так вот, большую часть этих его путешествий организовал наш проект WarGonzo.
Однажды я был в гостях у Лимонова, и он попросил меня переговорить со знакомыми редакторами — ему нужно было куда–то писать свои колонки (для заработка, как я понимаю). Таких смелых редакторов среди знакомых не нашлось. Тогда я имел смелость предложить Эдуарду Вениаминовичу писать для WarGonzo. На что он ответил, что готов поездить с нами в качестве репортера.
Денег на это у меня тогда не было совершенно. Но я начал их искать, понимая, что это отличная возможность снимать Лимонова со стороны, как он живет, пишет и все остальное. В итоге нашел спонсоров и сказал Лимонову, что готов отправлять его в командировки по горячим точкам при одном условии — мы будет его там снимать.
В результате мы отсняли двести часов материала Лимонова в Париже, на акциях протеста «желтых жилетов», в Донецке, Карабахе, Абхазии и Монголии. Это по–настоящему наша творческая сокровищница, и, надеюсь, рано или поздно мы сделаем интересный для зрителя и для истории продукт.
текст: Евгений Ванифатов