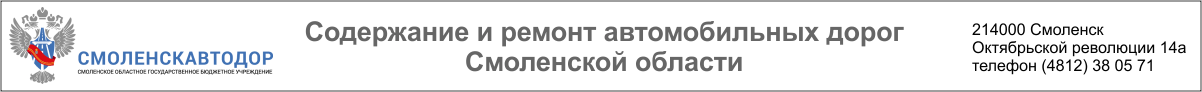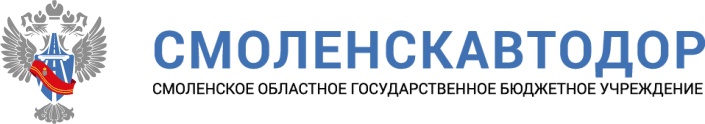Русский Леонардо
Смоленский гений: сорок лет удивительному памятнику Микешину

В Смоленске, в маленьком сквере на улице Тенишевой, неподалеку от здания музея «Русская старина», стоит необычный памятник. Он не возвышается монументально над прохожими, а, напротив, приглашает к диалогу. Бронзовый мужчина в раздумьях откинулся на скамье, его взгляд обращен к уменьшенной модели другого, грандиозного памятника — «Тысячелетию России» в Великом Новгороде. Смотрит автор на свое самое известное монументальное произведение серьезно и как бы оценивающе. Во взгляде читается вопрос: «Все ли я сделал для того, чтобы и через века люди уважали и ценили труд создателей памятника?»
Так скульптор Александр Рукавишников и архитектор Игорь Воскресенский в 1985 году изобразили своего великого предшественника — Михаила Осиповича Микешина. Этой скульптурной композиции, ставшей одной из визитных карточек Смоленска, исполнилось сорок лет.
Сын смоленской земли
Открытие памятника 4 октября 1985 года было глубоко символичным актом — возвращением имени великого мастера на его малую родину. И слово «великий» здесь совсем не преувеличение или дежурный комплимент. В 1896 году на похоронах скульптора и художника один из его коллег сказал: «Микешин — наш Леонардо». Имея в виду не столько степень талантливости, а, в первую очередь, широту интересов скульптора и масштаб его личности, сопоставимый с гигантами эпохи Возрождения.
Михаил Микешин родился 21 февраля 1835 года в деревне Максимково, неподалеку от уездного города Рославля Смоленской губернии.
Когда Мише исполнилось восемь лет и пришло время его учить, семья перебралась в Рославль, где мальчика определили в начальное народное училище. К этому времени мальчик уже неплохо освоил азы живописи. Уроки ему давал местный иконописец Тит Андронович.
Окончив с отличием уездное училище, Микешин поступил в смоленскую гимназию, но не доучился в ней до конца. Видимо, само провидение вело его по жизни.
Юный Микешин устроился чертежником на строительство Московско-Варшавской дороги. Дорога эта имела важное военно-стратегическое значение, поэтому строительство велось под контролем самого императора. Главным подрядчиком на строительстве участка, проходящего через Малоярославец, Рославль и Борисов, был отставной поручик Александр Александрович Вонлярлярский. И знакомство с ним стало для Микешина судьбоносным.
Вонлярлярский разглядел искру Божью в юноше и на свои средства отправил его в 1852 году в Императорскую Академию художеств в Санкт-Петербург, которую Микешин блестяще окончил в 1859 году по классу батальной живописи.
Первую же его крупную работу «Лейб-гусары у водопоя» купил сам император Николай I. Затем ачинаюий скульптор продолжал много и упорно работать в жанре живописи, одну за другой получая академические награды: большую серебряную медаль за композицию «Битва при Кашкадыкларе» (1855), малую золотую за работу «Падение литовской крепости Пиллоны» (1857), большую золотую за историческое полотно «Граф Тилли в Магдебурге» (1858).
Казалось, успешная судьба живописца была предрешена. Но случай круто изменил его жизнь.
Тысячелетие России
В 1859 году Микешин выиграл конкурс на проект памятника «Тысячелетию Российской государственности», опередив свыше полусотни маститых мастеров, среди которых было много академиков как российской, так и зарубежных академий.
Огромный монумент, включающий в себя 128 фигур, возводился под непосредственным руководством автора. Ему приходилось на ходу осваивать основы лепки, организовывать работу помощников-скульпторов Ивана Шредера, Матвея Чижова, Ивана Лаверецкого, Роберта Залемана и других, согласовывать список лиц, изображения которых предполагалось увековечить на монументе, с ведущими историками того времени.
Художник намеревался прибавить к высочайше утвержденному списку имена Тараса Шевченко и Николая Гоголя, обратившись с такой просьбой непосредственно к самому императору Александру I, что по тем временам было явным нарушением субординации. Микешин добился разрешения поместить на монументе Гоголя, увековечить же Шевченко так и не позволили.
Кроме того, молодой автор решил исключить из списка Николая I. Как он сам вспоминал об этом: «Меня приглашали в разные места для объяснений. Мест этих было много, и самое щекотливое мое объяснение было у Чевкина (К.В.Чевкин — главноуправляющий путями сообщений и публичными зданиями, в ведении которого находились все дела по сооружению памятников)… Наконец, потребовали к Великому князю Константину Николаевичу… Он сказал: «Скажешь причины, по которым не помещать покойного батюшку?» «Если Вы ставите этот вопрос на почву родственности, то я не могу говорить». «Ну, как же ты хочешь?» «Я хочу на время разговора забыть, с кем я говорю, чтобы мог говорить без страха и боязни». «Хорошо, говори». Я попросту и говорю: «Ваше высочество, личность покойного государя до того близка к нашему времени, что нельзя к ней беспристрастно отнестись. Есть множество голосов, которые в его правление находили угнетение русской мысли, другие страстно превозносят его. Во всяком монументе, который должен выражать личности, еще рано его изображать…»
Великий князь сказал: «Но ведь не посмотрят на твое желание, и ты должен поместить батюшку». Я отказался, сказав, что не могу быть насилуем как исторический художник, не могу делать то, что не желаю, и сил нет, которые бы меня заставили это сделать. Но есть люди и между художниками, для которых ничего не значат исторические взгляды — заплатите им, и они сделают на том же барельефе, что Вы пожелаете, но отсохнут мои руки, если это сделаю я… Заплатили Залеману, и он изобразил фигуру Николая I в казацком мундире рядом с Александром I».
Возведение огромного монументального сооружения требовало значительных технических работ. Но молодой автор проявил завидную энергию и незаурядные организаторские способности, и 163 года назад на Софийской площади Великого Новгорода при большом стечении народа монумент был открыт.
Он принес Микешину всероссийскую известность, орден Владимира и пожизненную пенсию. Это свидетельствовало об официальном признании заслуг Михаила Осиповича перед Отечеством. Однако демократическая критика, не одобрявшая самой идеи памятника, устами Владимира Стасова назвала памятник «Тысячелетие России» монументом русскому самодержавию. «Зачем он? Кому он нужен?» — вопрошал критик. Время, которое, как известно, лучший судья, дало ответ на этот вопрос. После того, как улеглись страсти, оказалось, что он нужен многим. Причем, воспринимается совсем не как монумент самодержавию, а как памятник великой истории России.
Это творение определило дальнейшую судьбу Михаила Микешина: он нашел свое истинное призвание в монументальной скульптуре.
Романтический жест у дома искусств
Памятник в Смоленске гениально передает эту переломную точку в судьбе творца. Микешин изображен не как дряхлый старец, оглядывающий пройденный путь, а как полный сил и замыслов творец в момент размышления о своем главном детище. «Романтическая трактовка», которую авторы придали образу, — это гимн вдохновению, моменту созидания. Скульптор сидит не на постаменте, а на обычной скамье, что делает его ближе к людям, доступнее. Он не бронзовый идол, а гений места, присевший отдохнуть в родном городе.
Выбор места для установки памятника также не был случайным. Здание музея «Русская старина» — это музей, основанный другой выдающейся смолянкой, меценаткой Марией Тенишевой. Таким образом, памятник Микешину органично вписался в культурный кластер, став связующим звеном между разными эпохами и личностями, прославившими Смоленщину.
Наследие, пережившее время
За проектом «Тысячелетия России» последовала череда других знаковых работ.
В 1861 году художник победил в конкурсе на памятник императрице Екатерине II в Санкт-Петербурге. Создал проекты памятников Кузьме Минину в Нижнем Новгороде (проект не был реализован), адмиралу А. С. Грейгу в Николаеве (памятник не сохранился), памятник Богдану Хмельницкому в Киеве и памятник Александру II в Ростове-на-Дону (памятник не сохранился). Также Микешин участвовал в международных конкурсах на проекты памятников Педро IV в Лиссабоне и сербскому князю Михаилу Обреновичу в Белграде. В Суздале художник-скульптор выполнил двери к гробнице князя Д. М. Пожарского.
В 1869 году Микешин получил высокое звание академика. Его творения определяли скульптурный облик имперских городов. Однако судьба многих его работ оказалась трагичной. Памятники царственным особам, включая Александра II в Ростове-на-Дону, были варварски уничтожены после революции 1917 года. Именно поэтому смоленский памятник работы Рукавишникова ценен вдвойне: это не только дань уважения скульптору, но и напоминание о его утраченном наследии.
Но Микешин был не только скульптором. Его творческая энергия била через край: он был талантливым графиком, иллюстратором произведений Гоголя и Шевченко, редактором и карикатуристом сатирического журнала «Пчела». А в 1892 году он стал одним из основателей первого в России общества эсперантистов «Espero» («Надежда»), что говорит о его передовых, космополитичных взглядах. Даже знаменитые «русские карточные масти», которые мы знаем сегодня, — это во многом заслуга Микешина, создавшего на рубеже веков эскизы для Императорской карточной фабрики.

Сорок лет в сердце города
Прошло четыре десятилетия с того дня, как бронзовый Микешин «поселился» на улице Тенишевой. За это время памятник стал неотъемлемой частью городской среды. Студенты художественных училищ приходят сюда для зарисовок, туристы узнают историю человека, прославившего Смоленскую землю, а горожане просто отдыхают рядом, впитывая атмосферу творчества, которую он излучает.
Памятник Михаилу Микешину в Смоленске — это больше, чем мемориальный объект. Это тонко продуманный арт-объект, рассказывающий историю без слов. История о мальчике из смоленской деревни, покорившем столицу. О живописце, ставшем великим скульптором. О художнике, чьи работы стали символами целой эпохи, а сам он, в бронзе и камне, навсегда вернулся домой, чтобы вдохновлять новые поколения. И спустя 40 лет его вдумчивый взгляд, обращенный к модели его главного творения, по-прежнему полон огня и новых идей.
Использованы материалы https://www.nn.media/magazine/104/455/?ysclid=mgkr63rt5r431061911