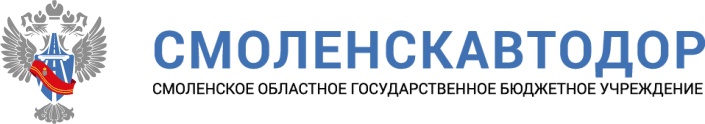Художник Кожевников и ничего лишнего
Я сидел на уютном диванчике в доме художников на Большой Советской и ждал художника–реставратора* Валентина Кожевникова. Он слегка опаздывал
Кожевников занимается реставрацией темперной живописи более тридцати лет. За это время через его руки прошли около сотни икон. Надо сказать, он и внешне похож не просто на реставратора икон (так его обычно и представляют многие из нас) — он похож на самого настоящего старца из какого–нибудь монастыря.
Достаточно взглянуть на его скульптурный портрет работы Валерия Гращенкова, председателя смоленского реготделения Союза художников России (см. ниже).
Судя по внешнему облику, я предполагал, что в работе с иконами Кожевников ищет сближение с Творцом. Ищет и находит. Косвенным подтверждением своей «божественной» теории я считал некоторую его отстраненность что ли, флегматичность. В компании своих друзей–художников Машкова, Зарубова, Леоненкова, в которую иногда заносило и меня, Кожевников обычно был самым спокойным и почти всегда умиротворенным, несмотря ни на что. Так мне, по крайней мере, казалось…
Скрипнула входная дверь, и на пороге появился Кожевников. Мы поднялись на третий этаж в его мастерскую.
«Извини за беспорядок, все никак не могу тут разобраться», — сказал он, обустраивая место для интервью.
Впрочем, никакого дискомфорта его творческий беспорядок не вызывал. А картины — да, они окружали плотным кольцом со всех сторон, как и полагается в мастерской художника: одни висели на стенах, другие стояли в ряд задниками (с выставки). Посередине главенствовал мольберт с незаконченным полотном: князь Потемкин показывает Екатерине Великой черноморский флот.
Кожевников предложил чаю, я согласился. Мы уселись и едва начали беседу (забыв про чай), как вдруг он встал, подошел к своим картинам и начал рассказывать их истории. Говорил немного путано (позже в интервью визави признается, описать что–то словом ему зачастую непросто: «Я буквально застываю»), но эмоционально.
В итоге получилось почти трехчасовое интервью, из которого я просто убрал все лишнее. Как и Кожевников на своих картинах.
* художник Союза художников России,
член международной ассоциации
изобразительных искусств — АИАП ЮНЕСКО,
заведующий отделом реставрации
Смоленского государственного музея–заповедника
— Валентин Иванович, ваш отец долгие годы проработал в правоохранительной системе, помощником прокурора Смоленской области. Могло ли случиться так, что вы бы пошли по его стопам, примерив строгий синий китель? Вообще, вы хотели быть «как папа»?
— В старших классах школы я почему–то мечтал быть… врачом. Ни в какие «художки» в детстве не ходил. Хотя дома, вечерами, рисовал. Умел рисовать. Ну как умел — проблем с рисованием не было никаких. Чувствовал линию, как говорится. По изо в школе одни пятерки ставили…
Отец от моей мечты, конечно, не был в восторге. А продолжалась она до тех пор, пока школьный учитель химии не поставил мне тройку в аттестате. Дело в том, что на одном из лабораторных занятий у меня прямо в руках взорвалась колба с реактивами, и химик, разозлившись, пошел на принцип: «Больше тройки ты у меня не получишь!»
Так и вышло, хотя я серьезно готовился в экзамену… Стало понятно, что с тройкой по профильному для мединститута предмету поступить в него практически нереально. Отец предложил идти в юридический институт на судебно–медицинский факультет. Но картинок из книги по судебной медицине я насмотрелся в детстве и понял, что это не мое. Просто страшные фотографии, меня они содрогали. Расчленять труп и смотреть, что у него внутри — это точно не для меня.
И тогда моя тетка сказала: поступай на худграф. А тетка моя окончила Ивановское художественное училище, ей преподавал один из учеников Репина. Для поступления на худграф надо было нарисовать какой–то стоящий натюрморт, и тетка принесла кое–какие работы из своего училища, и я начал учиться писать так, как на них. Она поправляла меня, я усваивал замечания. Поучился так некоторое время и пошел поступать. И поступил без особых проблем.
— Ваше чувство линии — это наследственность, это дар, это талант? Что это?
— Возможно, есть что–то от наследственности. Это также, как голос. У одного он есть, у другого нет. Но даже если у тебя есть голос, для того чтобы петь в итальянской опере, нужно его отшлифовать, научиться им пользоваться. Для живописца надо очень острое и тонкое чувство восприятия цвета и гармонии. Научиться этому тяжело, а если внутри тебя это есть от природы, можно развиваться.
От импрессионизма — к храмовой живописи
— Вы поступили на худграф в 1965 году, когда из его стен только–только вышел первый выпуск дипломников. Ваш друг Юрий Зарубов, график, в нашем интервью называет этот период «золотым веком» факультета. Вы согласны с ним?
— В принципе, да.
— Он также утверждает, что в середине 70–х на худграфе стали готовить не художников, а преподавателей. А вы пошли туда учиться на кого: на художника или преподавателя?
— На художника, конечно. Кстати, поначалу учеба шла достаточно тяжело: тройки, четверки. Не хватало подготовки, в отличие от многих сокурсников, у которых за плечами уже было художественное училище. Вначале я ходил на скульптуру к Альберту Сергееву.
А потом меня увидел Владимир Ельчанинов, замечательный живописец, народный художник России [с 1995 года — прим. авт.], член–корреспондент академии художеств. Вижу, говорит он, ты быстро растешь, из тебя может что-то дельное получится. Ну, раз учитель сказал… Я стал ходить на факультативы не к Сергееву, а к Ельчанинову. Стал больше писать.
Потом он взял меня на диплом. Я хотел было писать портрет Маяковского, но Ельчанинов эту идею не одобрил. В итоге сошлись на большом натюрморте из бытовых предметов. Председателем дипломной комиссии у нас был известный советский живописец Федор Шурпин. Блестящий мастер.
За день до защиты диплома он пришел в мою мастерскую, посмотрел на написанный натюрморт. Молодец, говорит. Потом, правда, сделал несколько замечаний. Дескать, банку с компотом он бы чуть «прижал», а на рыбке хорошо бы что–то заиграло, чтобы глаз зрителя через эту рыбку перешел на задний план натюрморта с большими предметами.
И вот — защита. Шурпин говорит членам комиссии: «Молодец Кожевников. Все на месте: рыбка, и банка. Но я смотрю на твой картон, написанный темперой, по–моему, он у тебя намного мощнее».
А Ельчанинов на этот картон почему–то не обратил внимания. После я долгие годы приходил к той простоте, к избавлению от всех лишних, ненужных, на мой взгляд, в картине деталей. Параллельно уходя от пейзажной живописи.
Во мне тогда, с одной стороны, боролся русский импрессионист Коровин (влияние Ельчанинова) с его яркими и сочными пейзажами, с другой — строгая храмовая живопись с приглушенными цветами. Победила вторая. И неслучайно моей любимой краской еще со времен учебы стала казеиновая темпера: матовая, бархатистая.
Меня уже тогда, кстати, привлекала древнерусская храмовая живопись, мастера, расписывавшие храмы. Поездки в монастыри и храмы Ростова Великого, Владимира, Киева… Даже не сами иконы. Иконы — потом, много позднее, стали просто профессией, которой я занимаюсь последние тридцать лет.
— В какой момент поняли, что стали художником? Что вы — художник в этой жизни.
— После третьего курса. Мы тогда отправились на пленэр на Урал. Альберт Сергеев как председатель смоленской организации художников выписал нам бумагу с печатью, своего рода обращение к властям и парторганизации Пермской области с просьбой помочь молодым художникам в сборе материала к предстоящей выставке. Имея такую бумагу, кем себя должен ощущать третьекурсник? Я ощущал себя именно что художником. И, между прочим, нам там помогали. Бумага оказалась что надо.
«Вытащить» мелодию картины
— С чего обычно начинаются ваши картины?
— Большинство из них начинается с некоего ощущения, вибрации от какого–то увиденного события. Я довольно остро воспринимаю цветовые состояния. На твой внутренний мир как на инструмент со струнами обрушивается настроение, порыв, эмоция. Ты отзываешься резонансом, начиная вибрировать в унисон с этим ощущением. Далее моя задача — «вытащить» из себя на холст суть этого ощущения.
— Иными словами, «вытащить» мелодию картины?
— Да. Как–то раз у дочки был день рождения. Весна, май. Мы для детей сделали праздничный стол в зале. А я сидел и курил в другой комнате. И вдруг передо мной проплыла фигурка. Девчонка, в руках тарелочка, на ней — кусок торта. Мне же показалось, что это не сладость, а светящийся шарик, или горящая свечка.
Чего она вышла на улицу?.. Простое событие. Но меня затронуло. Я долго возился с эскизом — вообще не получалось. Чего–то не хватало, чтобы появилось хорошее название. Назвать просто «День рождения» — не то. А потом понял: «День ангела». Звучит! Осталось добавить на картину ангела, и все.
— А что насчет сюжета, насколько он для вас важен?
— Когда на твои чувства обрушивается цвет и ты входишь в резонанс с пойманным ощущением, часто вначале не понимаешь до конца, что это. Потом из общей массы обрушившегося начинают складываться какие–то смыслы, переплетаться друг с другом. Все ощущения внутри тебя начинают складываться в какое–то представление об этом событии. А затем уже начинает формироваться сюжет.
Есть у меня картина «Слепой дождь» [2007 год — прим. авт.]. Как–то жена с дочкой вернулись с прогулки. Лето, тепло. Вбежали на крыльцо нашего дома на Рачевке. Я слышу голоса, смех. Вышел на них посмотреть, и вдруг передо мной — и форма, и цвет. Слышу их возбужденные голоса, заражаюсь их возбужденным настроением, и не сразу понимаю, что на улице не только светит солнце, но и идет дождь, и что они убежали в дом, спасаясь от этого дождя.
Я пошел в мастерскую и сделал эскиз: супруга с зонтом, дети и темное пятно на заднем плане. Вообще–то это был куст сирени, но какой–то странный. А у меня это темное пятно — словно строка из Визбора «Встает бесформенное чудо // И семафорит по ночам». Чтобы все главное на картине стало еще светлее, часть ее должна быть темной. Это как сигнал, что в нашем мире светлое и темное живут вместе. Потом прошло какое–то время, и по эскизу я написал картину.
— Во многих ваших картинах минимум деталей. Как говорится, ничего лишнего. Это все оттуда, от студенческого картона, отмеченного Шурпиным?
— Да, я действительно очень редко прорабатываю детали. Для меня важны в событии его суть и смысл (помимо цвета, формы, пространства), а не детали. Иногда они, конечно, бывают нужны. А вообще я вижу чуть–чуть обобщенно.
Однажды в 1979 году мы с моим другом Колей Марченковым поехали на пленэр в Коми, на реку Вычегду. Плыли по ней из Сыктывкара на стареньком пароходике. И на одной станции на борт вошла женщина средних лет, то ли с похорон, то ли еще откуда, села и погрузилась в себя. Я сижу и смотрю на нее. Странно. Как птица, вся в себе. Я и сам замер как она.
А потом прибежали две девчонки и сели по другую сторону от нее. Я отвернулся, а, повернувшись, вижу, что вместо них там уже сидит другая девушка. Посмотрел на них и обалдел: обе сидят как будто в одном состоянии — молодая и немолодая. Одна едет уже более часа, не двигаясь, вторая села недавно. Но обе они близки, обе они глубоко внутри себя. И только странная линия сидения, разделяющая их…
Когда мы вернулись в Смоленск, я сразу написал ту, первую, женщину. Большое полотно [«В пути» — прим. авт.] написал, не задумываясь, за три часа. А вот второй сюжет — с двумя женщинами и линией сидения — долго не давался. На эскизе я детализировал его: река, деревня на заднем плане, что–то еще. Не получалось. Все не то. Не то, что было внутри меня. Долго мучался… В итоге я ее написал только в 1983 году, за две недели [название то же, «В пути» — прим. авт.]
— Как вы определяете, что все: стоп, картина готова?
— «Слышу». Не всегда, кстати. Но когда «слышу», останавливаюсь ровно в тот момент, когда надо. Было дело, я недолго работал в смоленском драмтеатре. И однажды написал портрет актера Валентина Букина, он играл короля в «Снежной королеве». И вот Букин пришел после спектакля в костюме короля в актерское общежитие и зашел к нам, художникам–декораторам. Сел, опершись на руку, и говорит: «Что–то я сегодня не особо…» И провалился куда–то в себя.
А у меня оказался под рукой старый зимний пейзаж, написанный масляными красками. Я быстренько выдавил какую–то краску, взял кисть — и буквально через пятнадцать минут его портрет был готов. Бывают такие настроения… Оказалось достаточно просто передать его странное состояние, со вскинутой непонятно для чего рукой. И минимум лишних деталей.
Или, допустим, второй вариант картины «Весна 1787 года. На благо России», над которой я сейчас работаю. Море, небо, праздник, Потемкин показывает Екатерине севастопольский флот. Одну такую я уже написал и передал через наше «Морское собрание» Совета ветеранов в один из музеев Севастополя.
Первая сложилась, а эта идет туго. Хочется, чтобы она звучала более торжественно, чтобы, глядя на нее, внутри тебя все трепетало. А первая картина «На благо России» получилась, надо сказать, странным образом. Ее сюжет родился после перечитывания книги Александры Ишимовой «История России». Пока я работал над картиной, случились всем известные события на Украине, в результате которых Крым вернулся в состав России весной 2014 года. Получается, я писал, и в это же самое время исторические события происходили на Украине. Как будто бы на заказ.
«Большое путешествие»
— Вы преподавали на худграфе тринадцать лет, до 1987 года. И ушли. Почему?
— Было несколько причин. Не хватало энергии для творчества. Плохо создавать в свободное от работы время. В этом есть беда. Преподавательская работа забирает много сил, если ты целиком ей себя отдаешь. А еще семья, дети. Многие мои картины застыли: одни были только начаты, другие долгое время находились в процессе работы. И я понял, что устал от худграфа. Ушел, потому что захотел тишины.
— И пришли в профессию реставратора темперной живописи. Обрели долгожданную тишину?
— Это совершенно особая профессия. Все то, от чего я уходил, обрушилось на меня на новом месте работы. Но самое интересное, что, начав заниматься реставрацией живописи, я в какой–то степени приблизился к юношеской мечте стать врачом. Реставратор ведь что делает? Лечит вещи, картины, произведения искусства. Восстанавливает их настолько, насколько можно. И главный принцип здесь тот же, что и в медицине: не навреди.
Более того, реставратор напрочь должен быть лишен творческого начала. В том смысле, что не имеет права вносить в реставрируемый предмет ничего от себя. Многие века в храме поновляли иконы примерно так: каждые лет тридцать лет смывали олифу вместе с грязью и красками и сверху прописывали образ иконы, «поднимали» его. И все.
Но раз за разом уходила частичка первоначального облика иконы. В итоге иногда до наших дней доходят лишь частично сохранившиеся части образа. К примеру, в реставрационном центре имени Грабаря реставрировалась большая икона «Спас». На доске сохранилась только часть головы Спасителя. Образ живет и по–прежнему очень эмоционально воздействует на зрителя.
— Ваш друг Михаил Машков, живописец, сказал как–то, что иконопись оказала на вас сильное влияние. Что он имел в виду?
— В нашей жизни всегда есть мощные события, которые часто влияют на жизнь, направляют ее в то или иное русло. Тепло матери, нагоняй от отца, первое прикосновение к любимой девочке, первая женщина… Все это наполняет тебя своеобразным чувственным опытом, который постепенно формирует твое отношение к действительности, к пониманию этого мира.
Замечательно сказал Пикассо: «Я рисую не то, как вижу этот мир, а то, как я его понимаю».
Моя любовь к древнерусской монументальной живописи и далее, постепенно, к иконам, основана на собственном понимании мира. (Мне и в поэзии очень нравятся японские и китайские формы стихосложения — короткие, сжатые, емкие, но неизменно несущие глубокий смысл.) Меня всегда поражает наша древнерусская живопись, написанная несколько отстраненно, просто, но с глубиной. Наверное, это Миша Машков и имел в виду.
— А в каких отношениях с Богом вы находитесь?
— Мы были воспитаны материалистами, и я не считаю себя человеком верующим. Хотя дуализм между материальным и духовным присутствует во мне всю жизнь. Мы воспитывались в тот период, когда храмы уже не разрушали, но еще и не восстанавливали. И в храм меня тянуло не церковное действо, а магия храмовой живописи.
— То есть, когда работаете с иконами, не чувствуете, что становитесь ближе к Богу?
— Не могу сказать, что прямо застываю в религиозном экстазе. Во–первых, понимаю материальную основу иконы, понимаю, что это — творение рук человеческих. Во–вторых, к самому процессу реставрации я отношусь как врач. Икона для меня — больная картина, больной образ. Впрочем, икона часто мощно воздействует на зрителя, и это можно ощутить почти что физически.
— Сколько времени может уходить на реставрацию одной иконы? Один год, пять, десять?
— Этот процесс может занимать и десять лет, и более. В реставрационном центре имени Грабаря некоторые вещи находились в реставрации по двадцать лет. Хотя в течение этого времени они могли еще и по нескольку раз экспонироваться на выставках.
Иногда бывает так, что процесс реставрации заходит в тупик по объективным причинам. Например, неочевидна технология, которую необходимо применить, чтобы продвинуться в процессе дальше.
Или, допустим, отсутствует опыт решения аналогичных реставрационных задач в нашем профессиональном сообществе: никто не знает, что делать в некоем частном случае. А откровенно экспериментировать в нашей профессии нельзя. Напомню главный принцип: не навреди.
Но иногда решение приходит так же неожиданно. Много лет бьешься над ответом, и вдруг он находится. При этом нужно понимать, что в реставрации много технической работы. После каждого нового этапа нужно ждать, пока все стабилизируется. Иногда полгода–год надо выдержать вещь, прежде чем продолжать.
— В завершении нашей беседы еще раз коснемся мировоззренческой темы. Если писать вашу собственную жизнь, на что будет похожа эта картина, что в ней будет?
— У моей жены однажды была выставка графики под названием «Большое путешествие». По сути, жизнь — это и есть большое путешествие. Я, конечно, не поэт и словом владею плохо. Описать что–то словом мне зачастую непросто, я буквально застываю… Путешествие…
Мы пришли в этот мир, и это великое чудо, непонятное. Это дорога, местами усыпанная терниями. Это река, которая несет тебя по своим порогам. Это сердце, которое бьется от надрыва или страха, когда ты пытаешься лезть по скале вверх, но иногда срываешься вниз…
Большое путешествие… В котором нет ничего лишнего.
текст: Евгений Ванифатов