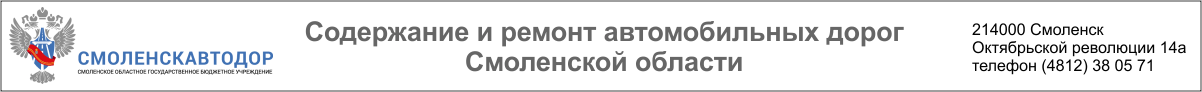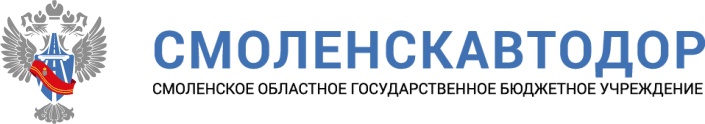Мост между войной и миром: как Смоленщина встречает защитников своей страны
История Андрея Киреенкова, прошедшего Чечню и СВО: о настоящих героях, чудесном спасении и новой миссии

Они не просто патриоты и воины. Они те, кто научился побеждать. Побеждать врага на поле боя, побеждать себя, преодолевая боль, страх и усталость. Но самая сложная битва для многих из них начинается после возвращения в мирную жизнь.
В рамках спецпроекта «Я ВЕРНУЛСЯ» «О чем говорит Смоленск» продолжает знакомить вас со смолянами, которые вернулись с передовой СВО.
Как встроиться в мир, где нет грохота «градов»? Как найти себя в тишине, которая кажется неестественной после месяцев на передовой? Как стать прежним, когда за плечами война, потерянные друзья и испытания, о которых не расскажешь в двух словах?
Герои проекта «Я ВЕРНУЛСЯ» — добровольцы. Они пошли защищать интересы своей страны, потому что именно так они понимают свой долг. И все они оказались на передовой – в самых горячих фронтовых точках. Они отдавали себе отчет, что рискуют жизнью, изначально приняв это как данность — Родина позвала. Это истории не только о подвигах, но и о том, что настоящий героизм — это еще и умение жить после войны.
Они планировали бить врага до Победы, но возвращение в мирную жизнь произошло раньше. Находясь в госпитале после тяжелого ранения, каждый из них надеялся вернуться на фронт. Не получилось. Теперь для них начинается новый этап служения Отчизне.
Как говорит Владимир Путин, эти люди должны стать новой элитой России: сильной, принципиальной, несгибаемой.
И наш проект «Я ВЕРНУЛСЯ» — это, в том числе, возможность увидеть, как Смоленщина встречает защитников своей страны.
В наших интервью с участниками спецоперации — откровенные разговоры о войне и мире. О том, что двигало ими в бою, как они справляются с возвращением, с какими трудностями сталкиваются и какие планы строят.
В этом году в Смоленской области стартовал аналог федеральной кадровой программы «Время героев» — «Герои СВОего времени. Смоленск». Эта программа — не просто помощь, для многих участников СВО это мост между войной и миром.
Нынешний герой нашего спецпроекта «Я ВЕРНУЛСЯ» Андрей Киреенков. Прошёл Чечню, выжил в «аду» под Херсоном и снова встал в строй. Тяжелейшие ранения, которые врачи называли «несовместимыми с жизнью». Год борьбы за возвращение из инвалидности. И новая миссия — помогать таким же, как он.
Андрей служил в составе отряда «Барс-20 «Гром». Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
То, что его тяжелораненого смогли эвакуировать из «серой зоны» — настоящее чудо. Тому, что он все-таки выжил после чудовищных ранений, давались диву даже врачи, повидавшие многое.
Но он не просто выжил. Он начал тренироваться, мечтая вернуться к своим на передовую. Не получилось. Но он не сдался. Принял решение пройти обучение по программе развития для участников Специальной военной операции «Время Героев».
Сейчас он работает в Главном управлении Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию. Но поиск своего места продолжается. Недавно Андрей прошел отбор в региональную программу обучения «Герои СВОего времени. Смоленск».
Для него спорт снова стал нормой жизни. Любой вызов судьбы Андрей встречает с улыбкой и известной присказкой из детства, где любимой игрой была войнушка: «Кино и немцы!..»

— Андрей, наш проект «Я ВЕРНУЛСЯ» открывало интервью с героем СВО Дмитрием Ковалевым — замкомандира штурмовой роты добровольческого батальона БАРС-20.
— (Улыбается). «Дитрих»? Да, мы вместе там были.
— Я правильно понимаю, что у вас, как и у него, до СВО за плечами были командировки в Чечню?
— Да. Моя первая война началась в 1995 году.
— А как вы вообще выбрали воинскую стезю?
— Я её не выбирал. Родился, крестился, учился в Смоленске, в обычной рабочей семье. Но у нас в роду все воевали: мой дед — ветеран Великой Отечественной войны, прошел финскую, Победу в Великой отечественной встретил в Кенигсберге, и их сразу из Восточной Пруссии на Дальний Восток перебросили, он домой вернулся только в 1946 году. Награжден медалями «За взятие Кёнигсберга» и «За победу над Германией». Прадед в Первую мировую войну воевал. Награжден за храбрость Георгиевским крестом. Был тяжело ранен, выжил. Поэтому у нас, наверное, это в крови. Судьба. Я не выбирал такую, так просто получилось. Минскую высшую школу МВД окончил, я юрист по образованию. Меня даже хотели оставить на кафедре преподавать, а я вместо этого со снайперской винтовкой по горам отправился лазить.
— Но в зоне боевых действий вы же не случайно оказались? Это как минимум погоны…
— В 1991 году я работал в УВД, занимался оперативной работой. Тогда же увлёкся спортивной стрельбой. А потом началась Первая чеченская война. Время было тяжёлое: инфляция, развал всего, в том числе, армии и силовых структур. В армии не хватало самого необходимого. Помню, у меня была винтовка, а для прицела не было батареек. Приходилось изворачиваться — соединяли квадратные батарейки от фонариков, чтобы хоть как-то работало. Было очень тяжёлое время. Штурм Грозного как раз в то время был — запомнился навсегда. Мне тяжелее не было, наверное, нигде. Может, потому что опыта тогда еще было маловато. Но тот январь 95-го поставил мне высокую планку выносливости — психологической, в первую очередь.
— Что больше всего потрясло тогда?
— Я понимаю, война есть война. Но война — это когда гибнут военные, а там всё перемешалось: наши, боевики, мирные… Заваленные трупами улицы. Мы занимали аэродром «Северный», там жилых построек особо не было никаких, но уже когда дальше пошли, там, знаете… во всех подвалах люди. Зима лютая, ни воды, ни света, ни продовольствия – вообще ничего! А там, в этих холодных подвалах, люди — старики, дети… Вот это самое тяжелое было. Мы их вывозить начали, они обессиленные совсем. Очень тяжело было даже смотреть на это. Потери были огромные. Помните гибель майкопской бригады при «новогоднем» штурме Грозного — когда за два дня из семисот человек в живых осталось около двухсот? Мы там совсем рядышком были, всё это происходило на наших глазах. Очень тяжелые воспоминания…
— Тем не менее, снова отправились в зону боевых действий, когда началась Вторая чеченская…
— Да. Вторая чеченская война в 2000-м. Дальше был 25-й отряд спецназа, там подготовка была очень сильная. У меня до 2005 года продолжалось участие контртеррористической спецоперации на Северном Кавказе.

— То есть, к моменту начала СВО опыт был уже колоссальный. Без малого двадцать лет мирной жизни — и снова «в бой». Как стали добровольцем?
— А знаете, я не могу объяснить, почему, но я точно знал, что будет эта война. У меня и рюкзак был собран. Все эти годы у меня были постоянные тренировки – бегал в бронежилете по 30 километров, плавал в ледяной воде… Когда начались события на Донбассе, я сразу хотел туда ехать. Единственное, что меня остановило — мама у меня очень тяжело все мои командировки воспринимала, и я боялся, что она просто не переживет, если я еще и туда поеду. Поэтому, когда началась СВО, я сразу решил ехать. Главный вопрос был — как сказать матери.
— Не матери и жене, только матери?
— С женой проще: скажешь, как есть, и всё, моё слово — закон. А тут пришлось подводить к этому разговору издалека, осторожно. И на этот раз мама меня поддержала. Абсолютно неожиданно. Я выдохнул и пошёл в военкомат. Прошёл комиссию, они посмотрели моё дело — предложили спецподразделение: Псков, 76-я ДШД или бригада спецназа. Я даже тесты прошел, быстро собрал документы, подписал всё, что нужно. Была пятница, и я решил: в понедельник пойду окончательно оформляться. А когда пришёл в военкомат, мне сказали: «Только что пришёл приказ: брать только до 50 лет». А мне уже 57. Мне говорят: «Через несколько дней отправка в Новочеркасск, в «Барс-20 «Гром» — добровольческий отряд». Мы тогда даже не знали, что это такое. Ну да ладно, «Барс» так «Барс». Так я оказался в 150-й дивизии.
Интересно, что уже после заключения контракта, когда мы получили оружие и были на полигоне, мне позвонили из военкомата: «В Пскове посмотрели ваше дело — вас там ждут». Но у меня уже был заключен контракт, я уже был здесь. Вот так вышло. А так попал бы в псковский спецназ или в ДШД. Не знаю, что было бы лучше. Господь нас по жизни ведет.
— Это же 2022 год – самое начало СВО, опыта ведения военных действий такого масштаба у нас тогда еще особо не было. Как проходила подготовка к отправке на фронт?
— Всё делалось в спешке. Мы провели где-то неделю в тренировочном лагере, и командиры только разводили руками: «Чему вас учить?» В добровольческих формированиях контингент тогда был другой — в основном там были люди, мотивированные внутренними убеждениями. В основном ветераны: кто Афганистан прошел, кто Чечню, были даже те, кто воевал в Югославии, Ливии, Сирии, Сомали. И таких ребят «со стержнем» было большинство. Тогда ещё не было этих огромных выплат, люди шли не за деньгами, а по убеждению.
Офицеров было столько, что девать некуда — должностей не хватало. Настоящие патриоты говорили: «Мне всё равно, какая должность. Я прежде всего солдат». У нас капитаны и майоры были командирами взводов и отделений — а это лейтенантские должности.
— Вы говорите, что тех, кто по убеждению, из патриотических чувств пошел в добровольческий отряд в 2022-м, было большинство. Были и другие?
— Вторая категория — те, кому было всё равно, где и с кем воевать. Зарплата тогда была около 200–250 тысяч, для них это было важно. И была еще третья категория — те, кто «в танчики не наигрался». Они не понимали, что такое война, пока не попадали под обстрелы. После первых потерь некоторые пытались разорвать контракт. Тогда ещё можно было — ставили штамп «500-й» (отказник) и человека отправляли домой. Сейчас так уже нельзя, и это правильно. Я бы таких вообще в штрафбаты отправлял, как раньше. Были и кадровые офицеры, которые не хотели воевать — им нужны были пенсия и зарплата, но рисковать они не хотели. Но таких совсем немного было.

— Ни для кого не секрет, что добровольцы тогда все отправлялись на «передок». Вас об этом предупреждали?
— Когда мы только приехали в Новочеркасск, замкомандующего округом построил нас и сказал честно: «Все идут на передовую, до единого. Если кто-то сомневается — сейчас ещё можно отказаться. Никто вас осуждать не будет». Но тогда никто не отказался.
Правда, были казусы. За пару дней до отправки мне в отделение дали человека, который впервые в жизни взял в руки оружие. Оказалось, он врач-реаниматолог с Алтая, ехал работать в госпиталь в Валуйки, но его по ошибке направили в штурмовое подразделение. Командир роты обрадовался: «Отлично, у нас будет санинструктор!»
Я говорю: «Какой из него санинструктор? Санинструктор — это солдат, который бегает, стреляет и под огнём тащит раненых. А это врач, посмотри на его руки! У него руки хирурга». Мы через комендатуру добились, чтобы его отправили в госпиталь. Мы и сейчас общаемся. Он на фронт постоянно ездит, в командировки в госпитали. Ну мы по сути человека спасли. Он занимается своим делом, и он сколько спас еще людей! А если бы остался с нами — погиб бы в первом же бою.
— Штурмовики всегда на передовой. Для вас самая горячая точка на Украине — это где?
— Июль… В то время, наверное, слышали — Давыдов Брод, Сухой Совок. Мы же были на той стороне Днепра. Вот там как раз были самые такие тяжелые, неприятные вещи. У меня всегда так: если Чечня, то Грозный, если Украина, то самое «пекло». Но нас к этому и готовили всегда. Поэтому с юмором отношусь этому, знаю, что всегда и везде хлебну «по полной программе».
— Как получили ранение?
— Это было утром, в 9:20. Левый фланг под Андреевкой. Андреевка – деревня на склоне. Половина наша, половина их. Нас всего 21 человек — больше не было людей. Нужно было держать позицию. Мы ночью зашли, утром начали осматриваться. В огороде возле погреба — трое убитых ДНРровцев. Ещё даже запаха нет, хотя на улице под 30 градусов. Видимо, их убили совсем недавно.
И вот в 9:20 — первое ранение. Осколком перебило ногу, задело нерв. Я ещё не знал, что нерв повреждён — просто нога отключилась. Кровь не хлещет — значит, артерии целы, хорошо. Перетянул, мой пулемётчик Серега, подбежал, сразу вколол промедол.
По рации доложил диспозицию и о ранении. Мне говорят — эвакуация. Отказался: людей и так мало, а я ещё держусь. Взял второй автомат вместо костыля, но в основном передвигался ползком. Мы выдержали накат — бандеровцы так и не прошли.
Ребята повели меня под руки. Пулемётчик взял мой вещмешок — это его и спасло. В этот момент — два взрыва. В меня осколок между «броником» прилетел — и смотрю, бок начал надуваться, кишки полезли. А военная медицина нас учила: разорвал перевязочный пакет, прижал, замотал. И главное — нужно постоянно поливать — иначе кишки засохнут, и мгновенная смерть.
Мы находимся в «серой зоне». Меня затащили в окоп у столба — ждать эвакуации. Подошёл БТР, но его сразу подбили прямым попаданием. Башню снесло, экипаж погиб. Меня оставили в окопе. Попросил хотя бы пару гранат — на случай, если придут добивать.
На руке записал для медиков (на случай, если отключусь) время второго ранения — 14:20. Жара под 30, грохот, взрывы. Прошёл час, второй, третий — тишина. Подумал, что наши погибли все.
Появился коптер и завис низко-низко надо мной. Я замер, даже дышать перестал, притворился мёртвым. Он долго кружил, потом улетел — видимо, решил не тратить боеприпас.
К вечеру услышал шаги. Сжал гранату — решил, если чужие, подорвусь вместе с ними. Но это оказались наши. Вытащили на КП. Командир (Ротибор, слышали, наверное, легендарная личность) по рации стал запрашивать эвакуацию мою. А меня вдруг разобрал смех: снаряды беспрерывно рвутся рядом. Потолок трясётся, сыплется земля, а я думаю: «Ну вот, опять не попали — «кино и немцы»!
Только под утро к нам пробился БТР. Меня закинули на броню, потом в кузов «Урала». До Новой Каховки – сорок километров по разбитой дороге. Каждый удар — адская боль. Оказалось, кроме ноги осколок повредил позвоночник и рёбра. В Новой Каховке сразу на операционный стол. Гемоглобин 46 — врачи качали головами. Очнулся — слышу вертолёт. В Севастопольском госпитале — вторая операция. Потом самолёт в Москву, в Институт Вишневского. Неделя в реанимации. Главный хирург шутит: «С гемоглобином 50 этот уже неделю не умирает, переводите его из реанимации», и меня перевели в одиночную палату. Это я потом уже узнал, что в одиночку переводили самых тяжких, безнадежных — тех, кто может умереть. Чтобы другие не видели, как умирают. Врачи уже и не надеялись, что выживу. А я все не умираю никак.
В Каховке был врач из «Вишневского» в командировке. Потом он меня уже в госпитале нашел и говорит: «Ну, тебя все запомнили тогда. Оказывается, я тогда на них кричал: «Шейте меня быстрее, мне надо возвращаться к ребятам!»

— Сколько в госпиталях провели времени?
— Шесть месяцев. «На костыли не встанешь, на коляске будешь передвигаться» — такой был приговор докторов. Но я на коляске не хотел и встал на костыли. На костылях мне тоже не понравилось. (Смеется). В общем, потихоньку-потихоньку начал сам ходить. Вот такой упрямый оказался. И живучий. Каждый год приезжаю в «Вишневского», там меня все врачи помнят, руками разводят: «Не ожидали такого».
Видимо судьбе зачем-то угодно было, чтобы я выжил. Ну и, конечно, физподготовка и здоровый образ жизни сыграли роль: я не курю и практически не употребляю алкоголь. И когда врачи сказали, что таких случаев, чтобы после подобных ранений выживали, не было в их практике, я им пояснил, что уже пятнадцать лет плаваю в проруби, марш-броски бегаю. Организм привык работать в экстремальном режиме и просто мобилизовался, когда того потребовали обстоятельства.
— Вас и таких, как вы, называют героями. Как вы к этому относитесь?
— Мы не герои. У нас есть подготовка, боевой опыт — нас этому учили. Это наша работа. Вот в Смоленске живет один человек — вот он, по-моему, настоящий герой. Ему 66 лет было, когда началась спецоперация. Пришел в военкомат, а у него в военном билете записано — стройбат, 70-е годы. Никакой военной специальности. Ему говорят: «Куда ты собрался? Тебе 66, да еще и без подготовки». Но он упрямый — две недели военкомат «доставал». В итоге отправили в Кантемировскую дивизию, в Наро-Фоминск. Там над ним сначала посмеивались: «Дедушка на войну собрался». А он быстро все освоил. Попал на фронт. Роста он небольшого, худощавый. Получил первое ранение легкое, вылечился, снова встал в строй. Под Купянском — второе ранение. И медаль «За отвагу» получил. Вот это настоящий герой.
— Кем он работал в мирной жизни?
— Электриком. Уже давно на пенсии.
— Можно узнать его имя?
— Сергей. Фамилию говорить не буду — он не любит публичности, в фонды не ходит, говорит: «У меня все есть, ничего не надо». Не занимается общественной деятельностью. Просто такой человек.
Еще настоящие герои — это срочники, которых в ноябре 1994 года призвали, а в декабре уже отправили штурмовать Грозный… Мы хотя бы подготовленные были. А они — обычные ребята. Вот кто действительно герои… (Пауза) Ну а мы… Нас этому учили, мы просто делали свою работу.
— Когда вы ранение получили?
— 22 июля 2022 года.
— Практически через месяц после того, как попали на фронт?
— Да, где-то так. Что в замес мы тогда попали, мы потом только узнали. Нас оказывается… Мы прикрывали выход частей из 49-й армии. Фактически как заслон мы были — вероятность погибнуть или получить ранение там была максимальной. Задачу надо было выполнить, и мы ее выполнили. Но все подробности мы узнали только через год. Тогда мы и не должны были ничего знать, потому что… это война — если человек попадает в плен, обладая какой-то информацией, важной для врага, эту информацию из него вытрясут.
— То, что вы называете «выполнить задачу», на самом деле — подвиг. И это не просто красивые слова, это факт. Вас всех представили к наградам?
— В то время добровольцев еще не награждали. Награды начали приходить где-то через месяцев восемь — весной. Нас представляли к наградам, не всех, правда. Мне пришла медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Представление было на орден Мужества, дали медаль. Потом уже, когда я восстанавливался после ранения, президент объявил о старте программы «Время героев». Эта программа направлена на реабилитацию, обучение и трудоустройство ветеранов боевых действий. То есть, участников и ветеранов СВО готовят к работе в госструктурах и через обучение управленческим навыкам.
Я еще не был уволен, я даже инвалидность себе не делал — тренировался, хотел вернуться в строй… Подумал тогда: ладно, анкету напишу, а там видно будет. Анкету заполнил, и через месяц приходит ответ: вы подходите, нужно пройти тестирование. Быстро прошел, все это сделал, и через месяц они мне прислали программу. Так я отучился и по федеральной программе «Время Героев», после чего был трудоустроен в Главное управление по делам молодежи Смоленской области. А сейчас пройду обучение еще и в нашей региональной программе «Герои СВОего времени. Смоленск».

— Учитывая ваш боевой путь и имеющийся опыт, для вас возвращение в мирную жизнь не стало глобальной проблемой?
— Возвращение… Психологических проблем не было. Были проблемы другого рода — со справкой о степени тяжести ранения. Проблемы с документами, наверное, у всех нас были — обычное дело. Я тогда слышал, что есть фонд «Защитники Отечества», который помогает в таких ситуациях «правду найти», но я не обращался туда. Это Ковалев Дмитрий (Дитрих) настоял, чтобы я туда пошел. В то время они еще только-только начинали. И я пришел, тогда еще на костылях, еле-еле двигался, и вот они меня решили взбодрить: давай-ка, включайся в активную жизнь, давай в патриотику, давай в спорт. Ну, какой спорт?! Я с трудом хожу, да и лет-то мне уже — огого, надо готовить более молодых, более перспективных. Но вот они как-то настояли. Понятно, что у меня есть опыт, есть образование… Так в моей жизни появилась патриотика и снова появился спорт — уму не постижимо!
— Андрей, вы явно скромничаете. На «Кубке Защитников Отечества» в Туле вы заняли первое место по метанию ножей.
— Про спорт вообще интересная тема. Ну какой спорт? А ведь на самом деле, самое сложное — это преодолеть себя, прежде всего. Перебороть себя, когда ничего не хочется, ничего не надо… Кто-то в обнимку с бутылкой сидит. Это не мой случай, тем не менее, я сначала сказал: не трогайте меня, спорт для меня закончился, у меня со здоровьем все плохо, начинаешь заниматься, боли адские. У нас многие через это «не трогайте меня» прошли… Александра Гуляева вы, наверное, знаете — ветеран боевых действий, колясочник. Его в фонде «Защитники Отечества» за уши буквально втянули в спорт. Казалось бы — какой спорт — человек ходить не может. Та же ситуация была и со мной, только я не на коляске, а на костылях был. Но спорт в нашей ситуации — это жизнь. Поэтому в нашем филиале фонда настояли на том, чтобы мы включились в активную жизнь, в общение, убедили нас, что спорт нам необходим. Сейчас Александр Гуляев участвует в Кубках по баскетболу на колясках.
Фонд на самом деле очень многое для нас делает, Наталья Полушкина с нами возится, как мама с маленькими детьми. Инна Михалева очень нас опекает — вот, начинаем тренироваться, она на тренировке с нами до позднего вечера, после девяти домой приезжает. Мы говорим: «Инна, иди домой, что ты всё свое время на нас тратишь!», она: «Нет, нет, нет, нет». Вот на самом деле, они такое большое дело делают, и целиком этому отдаются. Низкий им поклон за это.
— Все-таки, историю про первое место по метанию ножей хотелось бы услышать.
— Когда объявили, что команде нашего филиала фонда предстоит участие в очередном региональном этапе «Кубка Защитников Отечества» в Туле, выяснилось, что в программе Кубка появились соревнования по метанию ножа. Наша Инна Михалева сразу спросила: «Ребята, кто у нас будет ножи метать?». А ведь правда, мало кто сейчас этим занимается. Но для меня это дело знакомое — еще со службы в разведбате, разведроте и спецназе. Там мы постоянно тренировались — и ножи, и саперные лопатки, да вообще все, что под руку попадалось, шло в ход.
Для нас это была обычная боевая подготовка. Да и после службы привычка осталась. У меня своя тропа есть, я выхожу, двадцать раз отжимаюсь, нож в метку бросаю, дальше иду, снова выхожу, снова бросаю. Так и поддерживаю форму. И я сказал, что попробую с этими ножами разобраться.
Конечно, я понимал, что в спорте-то все по-другому: там специальные ножи определенного веса и формы, строгие правила — только за рукоятку бросать, четкие дистанции, мишени, особые требования. В армии такого не было. Но оказалось, что мой старый «бандитский» нож, с которым я тренировался, весит те же 330 граммов, что и спортивный. Рука уже привыкла к этому весу, так что адаптировался я быстро.
Два месяца мы готовились с Федерацией спортивного метания ножа. Оказывается, у нас есть такая федерация, и в Смоленске она тоже представлена энтузиастами, в частном порядке. Инна с ними связалась, организовала нам тренировки.
На соревнования в Тулу приехали команды из 18 областей Центрального округа. Я вышел, сделал то, что умею, и неожиданно для всех занял первое место!
Сейчас готовимся к Кубку России — там будет очень масштабное мероприятие. И, конечно, очень помогало и помогает нам наше Министерство спорта — спортзал, тренажеры, экипировка с символикой Смоленска — это всё они. Вообще, конечно, руководство области ветеранам большое внимание уделяет (это не дежурная фраза, это на самом деле так).
Сейчас пройду реабилитацию, потом с 11 сентября — учеба по программе «Герои СВОего времени. Смоленск». График сейчас очень плотный — с утра до вечера тренировки, сборы, занятия. Домой приезжаю в девять, а то и позже. Но мне не привыкать, опыт за плечами немалый. Кто бы мог подумать, что армейские навыки так пригодятся в мирной жизни! В общем, скучать мне не дают. (Смеется).

— Вы занимаетесь патриотическим воспитанием молодежи. А как вы оцениваете молодежь нашу?
— Что я могу сказать? Наверное, конфликт поколений всегда был. И если нам кажется, что всё у молодых не так — всё у них неправильно, нужно себя вспомнить. Наверное, мы тоже раздражали старшее поколение, когда хипповали, ходили с длинными волосами… Всё то же самое сейчас. Молодёжь — она такая, какая есть, её другой нет. Поэтому с ними надо работать — с теми, какие есть.
Но я могу сказать, что по сравнению, например, с прошлым годом, когда я только начинал проводить встречи с ними, поначалу они все сидели в телефонах, им было «фиолетово», что я там рассказываю. А сейчас они уже начинают слушать. Вопросы задавать начинают. Начинают интересоваться, потому что все-таки начинает что-то доходить.
Конечно, очень большую ошибку мы совершили в 90-е, когда страна осталась без идеологии — это полный мрак. Без идеологии, без духовных ориентиров страна существовать не может! Не может идти вперед, не помня предков, не зная своей истории. Так нельзя! Веру в Бога у народа атеисты отобрали после революции, взамен предложили свою идеологию, но совесть и любовь к Родине были не просто словами. А в 90-е и идеологию, и цензуру упразднили. Целое поколение так вырастили — Бога нет, вообще ничего святого нет! Опомнились. Оказывается, есть Бог, есть совесть, есть любовь к своей стране… Поэтому не всё потеряно, просто надо разговаривать с молодежью.
— Программа «Герои СВОего времени. Смоленск» — вот отучитесь вы. Вы для себя какие перспективы видите? Чего бы вам хотелось?
— Моя неугомонная натура требует постоянного действия. Просто сидеть дома я не могу. Считаю, что благодаря своим знаниям, опыту и образованию я могу быть полезен. Возможно, даже в развитии адаптивного спорта — ведь к нам приходит много раненых, очень много инвалидов.
Когда война закончится, это станет крайне важной темой. Спорт действительно мобилизует, дает толчок к развитию, помогает вернуться к мирной жизни. Это я на своем примере могу подтвердить.
Поначалу я сомневался: какой спорт в моем возрасте, да еще с моими болячками? Но шаг за шагом, постепенно… Главное — преодолеть самого себя. Если руководство сочтет нужным, думаю, смогу принести пользу.
Я должен был уже умереть, я тогда практически уже умер. Но каким-то чудом выжил, как стойкий оловянный солдатик. Наверное, я для чего-то ещё здесь нужен, раз Бог так распорядился.